|
Зритель
 
Форумчанин
Регистрация: 23.03.2011
Сообщения: 1,052
Репутация:  2305 
|
.
Всем, добрый день!:)
Ой, спасибо огромное, Командор, за песню!
Ну я то, оценила полноту и иронию «подарка», но народ ведь не знает, что когда у меня дома начинают (специально для меня!) на два голоса исполнять эту песню – я ввожу вето на ее исполнение!
Но, если уж говорить, то мне нравится другой клип на эту песню, который вы мне подарили ещё 5 лет назад – на экспериментальный художественный фильм чешского режиссёра Веры Хитиловой «Маргаритки» (Sedmikrásky),
снятый в 1966 году и получивший престижную Гран-при Бельгийской ассоциации кинокритиков.
И если честно, то я смотрю его как "на картину маслом"... - насыщенный синий индиго и зеленая свежесть.

Особенно нравится вот этот кадр!
Sedmikrásky (DAISIES) – Karl Marx Stadt – Мегаполис
 Хитилова была также главной женщиной
Хитилова была также главной женщиной - директором чехословацкого кино в эру, когда всё это подлежало власти мужчин.
Конечно, в свое время этот фильм вызвал жесткий отпор коммунистического режима, зато сегодня он входит в число лучших Арт – хаусных фильмов на чешском языке.

За очень яркую визуализацию фильма выступала Эстер Крумбахова - соавтор сценария и проводник художественной концепции «Маргариток», художница по костюмам.
Гениальная художница, работавшая не только с Хитиловой, но и с другими чешскими режиссерами "новой волны", несправедливо, часто остается в тени своих более известных коллег.
Но именно она наполняет вещественным, цветовым, фактурным материалом фильмы мэтров, вдыхает в них душу предметов и пространств и одухотворяет их своим неповторимым стилем.


Её сюрреализм вдохновляется логическим абсурдизмом кэрролловских романов об Алисе, а скрытая сущность героев претворяется в барочную избыточность деталей облачения и реквизита.
Многие фильмы, в которых Крумбахова принимала участие, представляют собой уникальный сплав стилистики модерна с сюрреализмом и кубизмом (и их более узкими ответвлениями).

Сама многоликость Эстер напоминает о давнишней идее «синтеза искусств», вдохновившись которой художники на рубеже XIX–XX веков стали заниматься всесторонним оформительством,
и уже затем этот подход отразился в широте интересов сторонников классического авангарда.

Широкую известность чешский кинематограф приобрел благодаря чехословацкой новой волне, когда в мир кино пришли новые, открытые и даже порой откровенные режиссеры,
использующие в своем творчестве приемы как реализма, так и сюрреализма и экспрессионизма.
Основными чертами чешских фильмов периода новой волны стали присутствие черного юмора, кафкианские мотивы, импровизация на площадке и очень точно и с особой тщательностью прописанные диалоги героев.



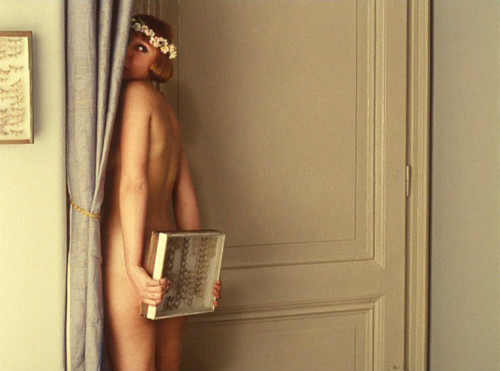
В основе повествования история двух юных девушек — двух Марий, которые, желая соответствовать окружающему их испорченному миру, проводят время в нехитрых увеселениях — обманывают ожидания кавалеров,
играют и вертят ими, набивают животы, бьют посуду и рушат банкетные залы.
Однако попытки выхода за рамки социальных норм и условностей возвращают героинь к началу: кто они и что с ними будет.
«Жизнь — бессмысленная, безрадостная и пошлая — берет реванш над витальностью. Сопротивление невозможно..»

Режиссёр Вера Хитилова открывает фильм темой греховности женского, позволив юным героиням вкусить плоды с дерева, напоминающего дерево познания Добра и Зла.
Две невероятные девушки, Мария и Мария, пытаясь познать смысл жизни, приходят к выводу: если весь мир плох - то и они будут плохими. После этого судьбоносного решения мир окончательно катится в тартарары.


Кульминационная сцена в банкетном зале показывает, как сначала играюче, однако с какой жадностью девушки набивают животы — и становится ясно, что еда —
способ притушить ощущение растерянности от трагизма мира, заполнить зияющую пустоту и подтвердить факт своего существования.
Как только не честили этот фильм: феминистский, дадаистский, абсурдистский, нонконформистский, антитоталитарный. Но сколько определений ни вспоминай, "Маргаритки", все равно останутся в памяти примером абсолютного и несколько невменяемого счастья.
Перекраивая - будто легкое платье из ситца - окружающую действительность на собственный непростой лад, накалывая мужчин на булавки своего безумного гербария, порхая по времени и пространству будто мотыльки-капустницы, две Марии подают пример единственно возможного отношения к цивилизации шестеренок, бомбардировщиков и праздничных банкетов.
 Фильм был запрещен к показу из-за инновационности съемки.


Математически точный абсурдизм Льюиса Кэрролла.
Фантазии, навеянные «Приключениями Алисы в Стране Чудес» и «Алисой в Зазеркалье», в чешском кино заслуживают отдельной рефлексии (впрочем, как и вопрос о влиянии поэтики английского абсурда).
Эти два романа, почитаемые в XX веке за прототекст сюрреализма, во многом предупредили и кафкианский гротеск. Тем не менее, не обремененные ни сумрачным экспрессионизмом кафкианского мира, ни идеологической претенциозностью зрелого сюра, они сохранили форму чуть чопорной детской игры, и этим, безусловно, импонируют чешской ироничной миросозерцательности.
Командор, большое спасибо за рецепт «рульки».
Но я тут обратила внимание на фото, что к рульке в мешок положили овощи...
Раньше часто читала (пока сама не попробовала сделать), - многие «ругали» «мешок для запекания», говоря, что мясо получается вареное и без корочки. Сначала не могла понять, почему у меня мясо красивое и зажаристое выходит в «рукаве»: 1; 2 - скорее всего потому, что я не следовала инструкции на этикетке на счет жидкости.
И эти «непонятки» были до тех пор, пока как – то сделала тоже такой эксперимент – вместе с мясом положила овощи!
И мясо действительно получилось «никакое», а просто тушеное.
Может если некогда или лениво готовить, или мамочкам с маленькими детьми - то можно и забросить мясо вместе с овощами и про них забыть на пару часов, пока они тушаться в духовке.
Но, немцы – народ экономный, поэтому лично для меня это был «отрицательный» эксперимент, т.к. быстрее пожарить просто мясо на сковороде и потушить там же овощи, чем 2 часа «гонять» духовку и тратить электроэнергию.
В общем, если хотите чтобы ваше мясо было золотистым и сухим – избегайте всяких дополнительных источников жидкости, например, овощей. Влаги достаточно будет в мясе и в соусе, которым мариновали мясо.
Ну, а если кто – то любит «незаморачиваться» и все тушить в «рукаве для запекания, то результат будет выглядеть приблизительно так...
Мясо в рукаве с овощами.

 Cкрытый текст -
Cкрытый текст -

В инструкции «рукава для запекания» стояло, что нужно к овощам налить 50 мл бульона или воды со сливочным маслом. Я вместо масла положила кусочек топленого свиного жира.



В чашке смешать томатную пасту, соевый соус, красный перец, горчицу, немного соли и мед. Глазурь должна получиться густой.


Обмазать глазурью мясо и поставить в холодильник на 30 минут или 1 час.


Картофель, морковь, корень сельдерея, цукини, лук – порей, сладкий перец, репчатый лук – почистить, помыть и порезать средними кубиками.


Овощи посолить, поперчить и выложить в рукав для запекания.

На овощи положить мясо, по бокам мяса разложить веточки розмарина.
Завязать концы рукава.

Сверху проткнуть рукав для запекания в трех местах.

Разложить овощи с мясом на противне, чтобы пакет не касался тэнов духовки.
Распределить мясо в духовке так, чтобы когда оно поднимется не касалось открытых тэнов.
Включить духовку на 200 градусов и выпекать в течение 72 минут на средней шине.

Вынуть противень из духовки.



Аккуратно разрезать сверху пленку, раскрыть ее и переложить мясо на другую чашку.

Аккуратно выложить овощи в чашку (можно с бульоном, можно бульон подать отдельно в порционных чашечках).



Приятного аппетита!
Продолжая тему Веры Хитиловой и Эстер Крумбаховой, в качестве музыкальной паузы выступит - финская поп-певица, автор песен, музыкальный продюсер Chisu (Кису).

Настоящее имя — Кристел (Кристель) Мартина Сундберг (Christel Martina Sundberg). Сценический псевдоним образован от финского слова kisu — «кошечка», — в котором первая буква записана как Ch по аналогии с её настоящим именем, Christel.
До того, как начать музыкальную карьеру, Кристел работала в магазине одежды.
Карьера Кису началась в 2007 году, когда она написала свой первый сингл Mun koti ei oo täällä («Мой дом не здесь», «Мой дом, увы, не здесь»), который стал саундтреком к фильму «Сольное выступление» («Sooloilua»). Весной 2008 года песня стала хитом в Финляндии, заняв первые места в главных чартах страны и став одной из самых скачиваемых в финском интернете. Первые позиции песня удерживала 9 недель. 27 февраля 2008 вышел первый альбом Alkovi («Альков»).
Cкрытый текст -
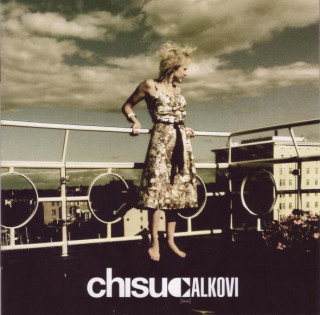 CHISU - Amelie – Alkovi
CHISU - Amelie – Alkovi
Релиз второго альбому Кису, Vapaa ja yksin («Свободная и одинокая», «Свободна и одинока»), состоялся 23 сентября 2009 года. Продажи этого альбома составили более 30 тысяч копий.

В том же 2009 году Кису победила в двух номинациях главной финской музыкальной премии «Эмма», в том числе за лучший сингл — Mun koti ei oo täällä.
В 2010 была номинирована в семи категориях, включая «Лучшая исполнительница», «Альбом года» и «Продюсер года».
 Chisu - Sabotage (Official video)
Chisu - Sabotage (Official video)
Третий альбом — Kun valaistun — 2011 года. Альбом дебютировал в Suomen virallinen lista на первом месте.
 Chisu - Tuu mua vastaan
Chisu - Tuu mua vastaan
За свою карьеру Кису продала более 90000 дисков, что позволило ей войти в список 50 самых успешных исполнительниц Финляндии.
Приятного всем дня!:)
Последний раз редактировалось djuka, 22.11.2025 в 13:42.
|